Тучи над страною солнца.
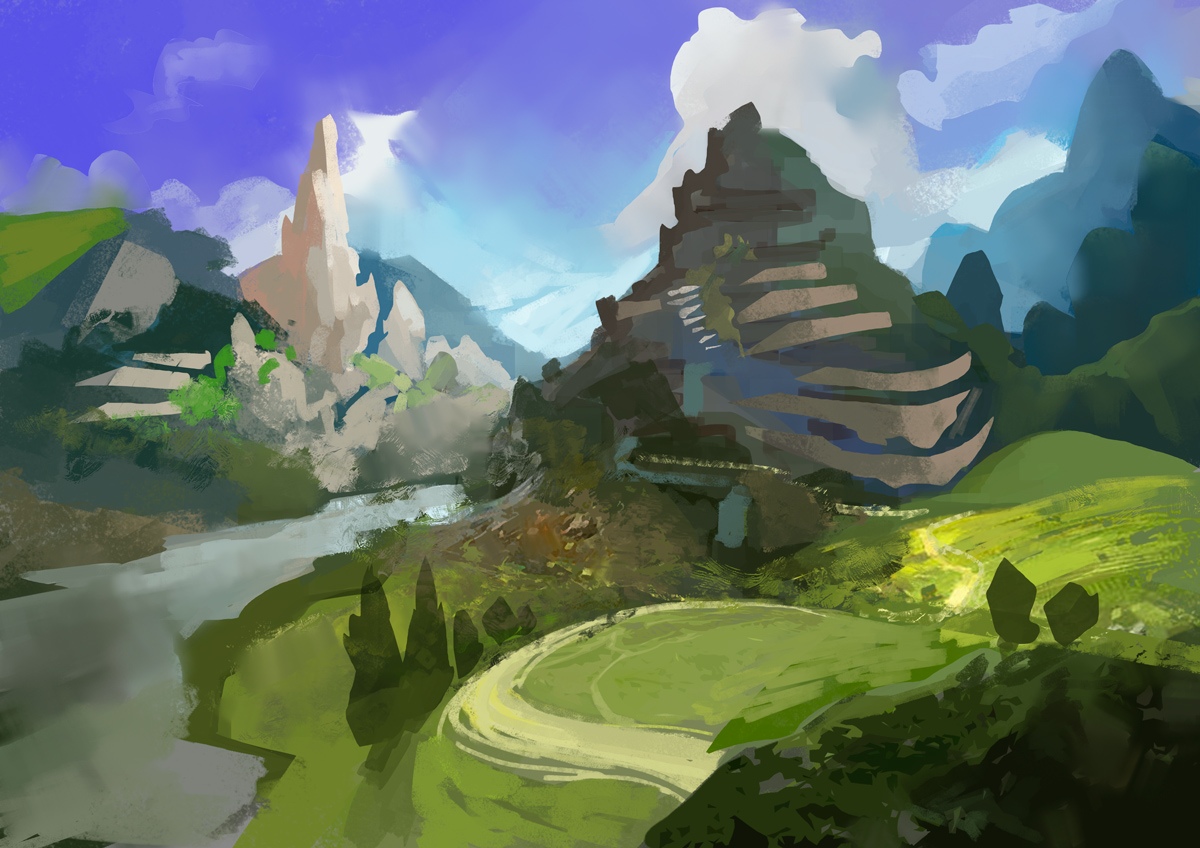
Имена в романе.
Некоторые специфические слова и понятия.
Пролог
Глава первая. Трудный выбор.
- --
Только через внешнюю торговлю можно было добыть новые технологии.
- -- С помощью дипломатических мер было необходимо не допустить, чтобы христианские страны объединились против языческой страны в единый фронт. Тут необходимо было тонко играть на противоречиях между ними, а для этого, в свою очередь, необходимо было быть в курсе всех европейских дел.