Артур Финч
"Почти 70"
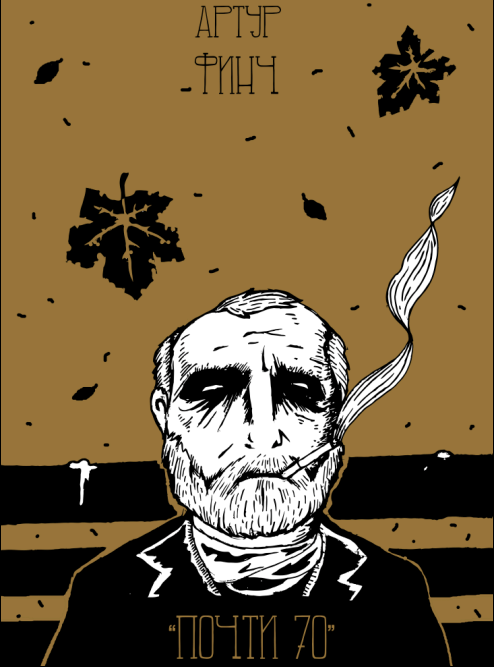
Посвящается тебе. Предисловие
Вперед. И удачи.
Артур Финч
"Почти 70"
Часть I
Глава 1
***
Глава ?
***
***
Глава ?
***
***
Глава ?
Похороны Валентина
Глава ?
Сон
|
|
||
Артур Финч
"Почти 70"
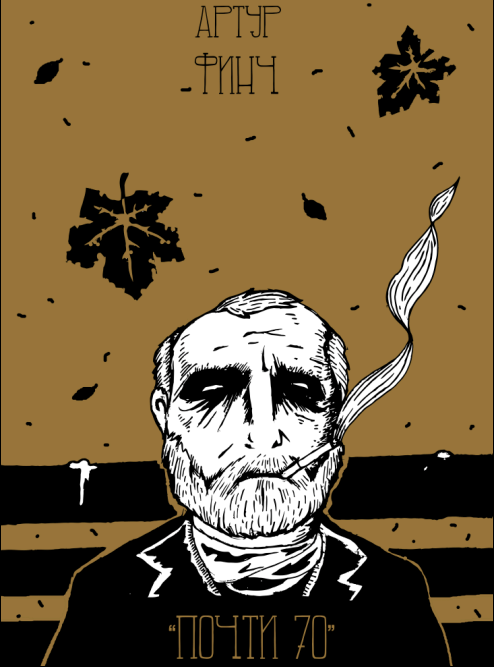
Посвящается тебе. Предисловие
Вперед. И удачи.
Артур Финч
"Почти 70"
Часть I
Глава 1
***
Глава ?
***
***
Глава ?
***
***
Глава ?
Похороны Валентина
Глава ?
Сон